ПИСЬМА_К_БЛИЖНИМ.ONLINE / 1905
1905
/ Общий контекст IV тома /
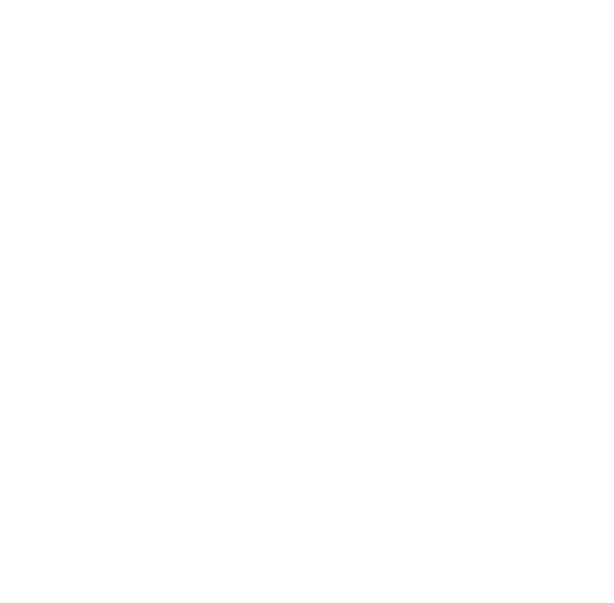
Андрей Тесля
Кандидат философских наук, научный руководитель
Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук
Балтийского федерального университета им. И. Канта
Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук
Балтийского федерального университета им. И. Канта
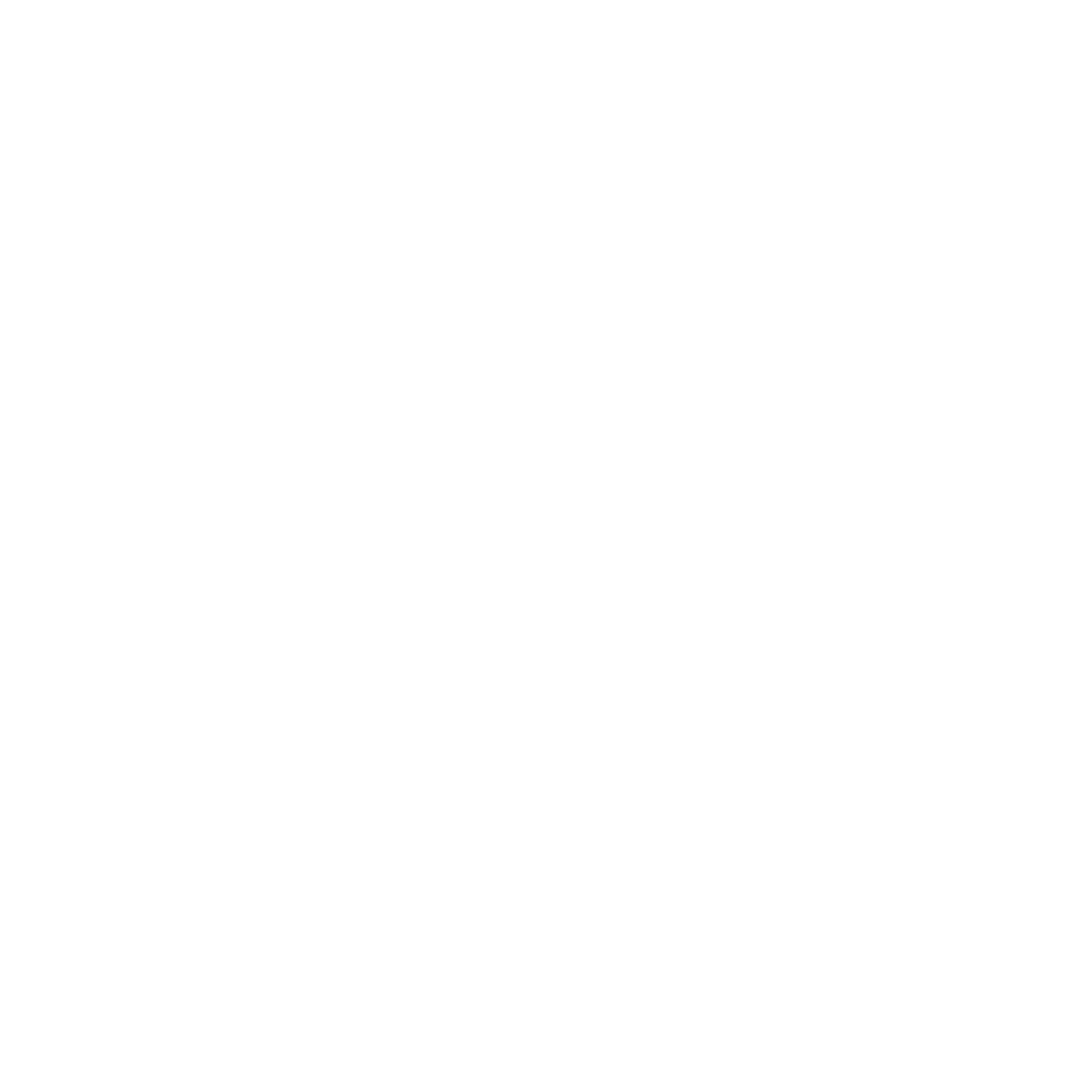
1905-й — год Первой русской революции. Начинающийся «Кровавым воскресеньем», стачками, волнениями по всей империи и завершающийся вооружённым восстанием в Москве, он превратит Россию в конституционную монархию, открывая новый, думский период в истории страны…
То, что грядущий год принесёт радикальные перемены — в той или иной степени ощущали многие. Насколько они окажутся радикальными — не предвидел, кажется, никто. Словно между той страной, что вступала в 1905-й, и страной, его покидавшей, пролегло не двенадцать месяцев, а дюжина лет. Впрочем, это лишь одна из сторон того, что называют «революцией» — ведь подлинная революция тем и отличается, что время тогда течёт иначе.
Кризис не просто назрел, а перезрел — достаточно напомнить, что о необходимости больших реформ говорилось не только князем Мещерским, на протяжении 1880−1890-х гг. бывшим самим воплощением «реакции», но и фактически было возвещено с высоты престола в манифесте 1903 г., который одновременно сводил преобразования к ничтожным частностям. О потребности не только в глубоких преобразованиях, но и в поиске новых форм взаимодействия с обществом говорил и Плеве в первое время своего министерства — с тем, чтобы погибнуть от бомбы, брошенной Егором Сазоновым, уже оказавшись в тупике глубочайшей конфронтации с земством и всеми общественными силами страны.
О степени радикализации общества ярко свидетельствовала волна эсеровского террора, поднимавшаяся с 1901 г. За полтора десятилетия с момента провала попытки организации покушения на Александра III (второго «первого марта», когда в числе казнённых оказался и Александр Ульянов, чья гибель обеспечила на первых ходах революционную репутацию его младшему брату, Владимиру), империя успела практически забыть о терроре. Теперь же страну вновь охватывала волна революционного насилия — при этом с готовностью жертвовать собой, напряжением, близким к религиозному экстазу.
Кризис не просто назрел, а перезрел — достаточно напомнить, что о необходимости больших реформ говорилось не только князем Мещерским, на протяжении 1880−1890-х гг. бывшим самим воплощением «реакции», но и фактически было возвещено с высоты престола в манифесте 1903 г., который одновременно сводил преобразования к ничтожным частностям. О потребности не только в глубоких преобразованиях, но и в поиске новых форм взаимодействия с обществом говорил и Плеве в первое время своего министерства — с тем, чтобы погибнуть от бомбы, брошенной Егором Сазоновым, уже оказавшись в тупике глубочайшей конфронтации с земством и всеми общественными силами страны.
О степени радикализации общества ярко свидетельствовала волна эсеровского террора, поднимавшаяся с 1901 г. За полтора десятилетия с момента провала попытки организации покушения на Александра III (второго «первого марта», когда в числе казнённых оказался и Александр Ульянов, чья гибель обеспечила на первых ходах революционную репутацию его младшему брату, Владимиру), империя успела практически забыть о терроре. Теперь же страну вновь охватывала волна революционного насилия — при этом с готовностью жертвовать собой, напряжением, близким к религиозному экстазу.

Обложка журнала L’Assiette au Beurre «Красный царь». Февраль 1905 г.
«Кровавое воскресенье»
Отправной точкой, с которой обычно начинают повествование о революции 1905 г., выступает «Кровавое воскресенье», расстрел в Петербурге мирного шествия рабочих, с разных концов города направлявшихся к Зимнему дворцу с целью подать государю петицию — одновременно экономического и политического плана, с требованием улучшения своего положения и политических преобразований. В этой истории сплелось многое: и сама рабочая организация, возникшая под покровительством политической полиции, возглавляемая тесно связанным с ней Георгием Гапоном; и итоговая утрата полицией контроля над движением и над собственным агентом; и неспособность своевременно предотвратить демонстрацию, устроив в столице кровавое побоище. Эти события не только оказываются символическим началом, потрясением, после которого всё нарастающее брожение переходит в активную фазу — но и одновременно демонстрируют, насколько существующий порядок требует изменений.
Конституционная монархия

Среди перемен, пережитых страной в 1905 г. (тех, что бросались в глаза, в первую очередь осознаваясь современниками, в противовес тем, что происходили подспудно и рефлексировались годы спустя), — первое место занимает конституция. Страна обрела общенациональное представительство, при этом вначале заявленное как законосовещательное, но уже в октябре 1905 г. признанное законодательным: то, о чём десятки лет мечтали русские образованные круги, стало реальностью. Были провозглашены в качестве прав свобода слова, свобода печати, свобода собраний, свобода вероисповеданий. Россия становится конституционной монархией — что на первых порах признаёт как очевидность и сам император — чтобы затем вычеркнуть слово «конституция» из своего лексикона. Но, независимо от того, произносится или нет — оно оказывается реальностью, и для кадетов к исходу 1905 г. задача уже видится не в укреплении конституционного режима, а в переходе к парламентскому правлению. Дума, к выборам в которую напряжённо готовятся разные партии и группы, мыслится кадетами и всеми, кто левее их — как долженствующая стать Учредительным собранием, а отнюдь не рядовым представительным органом.
Это ещё и изживание «комплекса неполноценности» — ведь для множества представителей русского образованного общества перманентным тяжёлым переживанием на протяжении десятков предшествующих лет было сознание, что Россия остаётся единственной европейской державой, не обладающей конституционным правлением. Как иронизировал на экзаменах профессор Герье, один из столпов Московского университета, даже Турция с 1876 г. пусть формально, но всё-таки тоже является конституционным государством. Отныне — быстро или медленно, успешно или с трудом — Россия оказывалась не исключением, изъятием из общего порядка европейских стран, а частью большой европейской реальности.
Это ещё и изживание «комплекса неполноценности» — ведь для множества представителей русского образованного общества перманентным тяжёлым переживанием на протяжении десятков предшествующих лет было сознание, что Россия остаётся единственной европейской державой, не обладающей конституционным правлением. Как иронизировал на экзаменах профессор Герье, один из столпов Московского университета, даже Турция с 1876 г. пусть формально, но всё-таки тоже является конституционным государством. Отныне — быстро или медленно, успешно или с трудом — Россия оказывалась не исключением, изъятием из общего порядка европейских стран, а частью большой европейской реальности.
Порт-Артур — Цусима — Портсмут
В военном плане 1905-й приносит череду оскорбительных поражений, которые в свою очередь не только воспринимаются как «ещё одно» свидетельство негодности существующего порядка, настоятельности перемен, но и лишают существующую власть значительной части её прежнего статуса, «обаяния мускульной силы». Более чем скромные гражданские права можно было оправдывать государственным могуществом, имперской мощью — блеск державного владычества если и не был утешением при собственном бесправии, то представлялся в глазах многих возможным именно за счёт «крепкой» власти, «единодержавия».
Капитуляция Порт-Артура прозвучала не просто поражением, но позором, однако несоизмеримо большее значение — особенно в плоскости идей и настроений — получила Цусима. Прежде всего из-за сочетания целого ряда обстоятельств: и долгого (звучащего как нарастание трагического ожидания) пути трёх эскадр по трём океанам, шедших в конце концов найти гибель на расстоянии лишь нескольких сотен миль от пункта назначения; и героизма, явленного в бою офицерами и матросами; и бессмысленности всего происходящего — ставшей совершенно явной после сдачи Порт-Артура. Ведь даже сумей флот пробиться во Владивосток, оставалось непонятным — что это могло бы дать в военном плане.
Капитуляция Порт-Артура прозвучала не просто поражением, но позором, однако несоизмеримо большее значение — особенно в плоскости идей и настроений — получила Цусима. Прежде всего из-за сочетания целого ряда обстоятельств: и долгого (звучащего как нарастание трагического ожидания) пути трёх эскадр по трём океанам, шедших в конце концов найти гибель на расстоянии лишь нескольких сотен миль от пункта назначения; и героизма, явленного в бою офицерами и матросами; и бессмысленности всего происходящего — ставшей совершенно явной после сдачи Порт-Артура. Ведь даже сумей флот пробиться во Владивосток, оставалось непонятным — что это могло бы дать в военном плане.
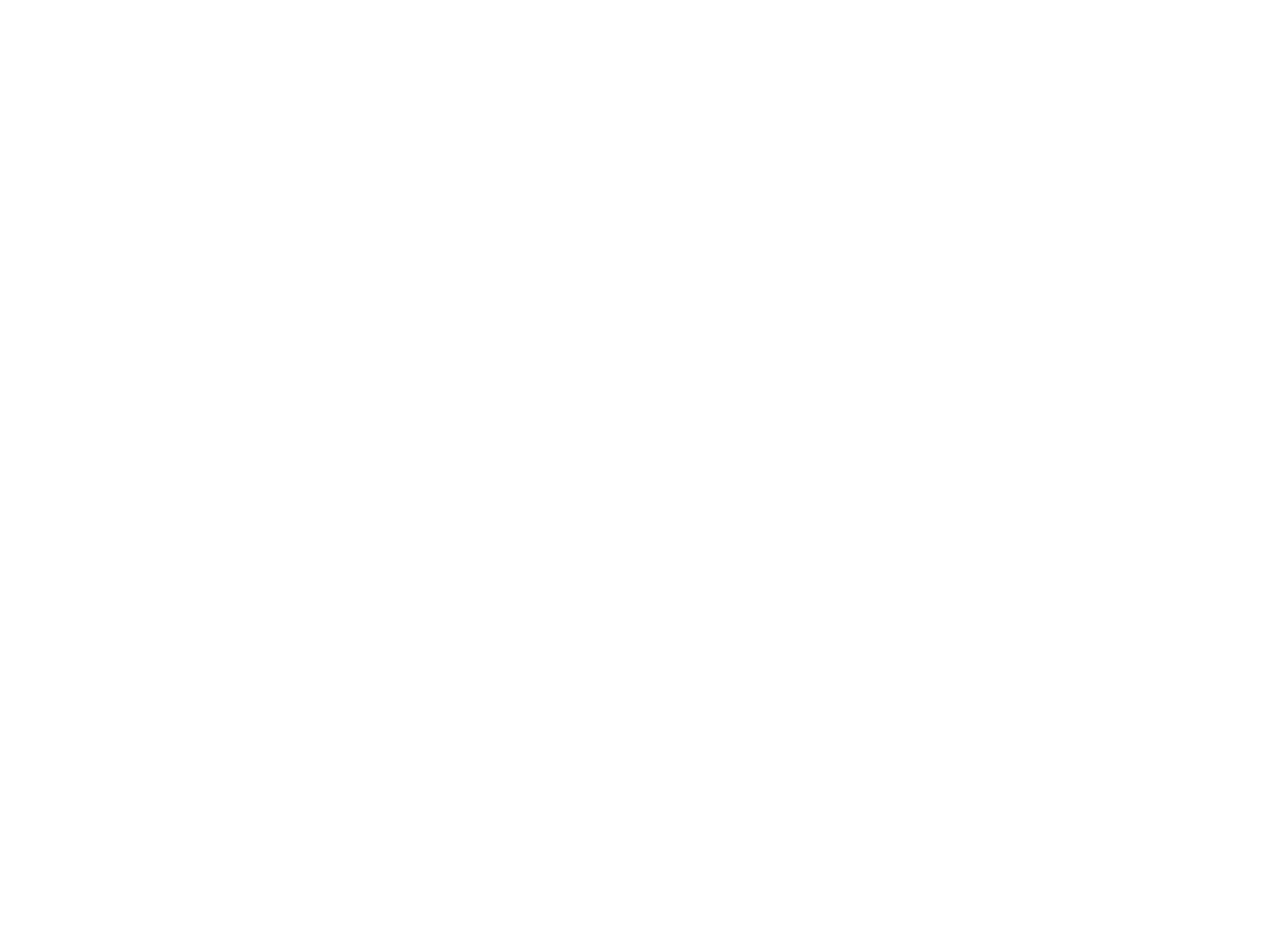
Российская делегация по подписанию мирного договора во главе с С. Ю. Витте. Портсмут (США). Август 1905 г.
Война закончится на исходе лета — Портсмутским миром. По мирному договору Россия передавала Японии право аренды Квантунского полуострова, завершила тянувшийся с 1870-х спор из-за статуса Сахалина передачей японской стороне южной части острова и островов Курильской гряды, а также была вынуждена минимизировать своё влияние в Корее (которая в 1910 г. будет оккупирована Японией и официально присоединена к ней в качестве колонии). Сравнительно благополучный финал военного столкновения обусловливался тем, что обе стороны были заинтересованы в скорейшем подписании мира — если для России контекст, в том числе нарастающего внутреннего революционного движения и финансовых затруднений, был понятен, то японская сторона к этому времени подошла к истощению своих человеческих и материальных ресурсов (в то время как Россия и по логистическим, и по политическим причинам действовала на маньчжурском театре военных действий ограниченными силами).
В средне- и долгосрочном плане завершение Русско-японской войны означало переориентацию русской внешней политики с дальневосточного направления на Балканы и Проливы — начинается быстрая переконфигурация внешнеполитических альянсов, которая после заключения в 1907 г. соглашения с Великобританией по Персии сделает возможной «Антанту». Собственно военные итоги Русско-японской войны окажутся весьма значимыми — все последующие годы будут посвящены реформированию армии и во многом созданию флота заново: в результате русская армия и флот, как они покажут себя в событиях Первой мировой войны, продемонстрируют, насколько были выучены уроки предшествующего поражения.
В средне- и долгосрочном плане завершение Русско-японской войны означало переориентацию русской внешней политики с дальневосточного направления на Балканы и Проливы — начинается быстрая переконфигурация внешнеполитических альянсов, которая после заключения в 1907 г. соглашения с Великобританией по Персии сделает возможной «Антанту». Собственно военные итоги Русско-японской войны окажутся весьма значимыми — все последующие годы будут посвящены реформированию армии и во многом созданию флота заново: в результате русская армия и флот, как они покажут себя в событиях Первой мировой войны, продемонстрируют, насколько были выучены уроки предшествующего поражения.
Крестьянский мир
Начавшееся движение приведёт к тому, что почти одновременно на поверхность выйдут десятки накопившихся проблем и противоречий — собственно, именно эта множественность и глубина затруднений и сделает движение столь сильным и неостановимым: от устройства церковной жизни до университетского управления.
Если политическое внимание приковано к столице и к Москве — то фундаментальные процессы совершаются внутри страны, прежде всего — трансформация крестьянского мира, вылившаяся в то, что на официальном языке времени именовалось «аграрными беспорядками». Именно аграрные беспорядки, начавшиеся за несколько лет до революции 1905 г. — то есть до того, как революция вылилась на улицы городов — закончили «век русской усадьбы», приведя к массовым продажам землевладельцами земли, приобретателями которой выступали преимущественно крестьяне — так, что независимо от теоретических дебатов, значительная часть аграрной реформы, варианты которой будут обсуждаться в 1905—1906 гг., осуществится на деле.
А запомнившаяся многим — и с годами приобретшая символическое значение — выставка русских портретов в Таврическом дворце, организованная Дягилевым, окажется эпилогом усадебной России, как раньше этот эпилог прозвучал со сцены МХТ в «Вишнёвом саде».
Начавшееся движение приведёт к тому, что почти одновременно на поверхность выйдут десятки накопившихся проблем и противоречий — собственно, именно эта множественность и глубина затруднений и сделает движение столь сильным и неостановимым: от устройства церковной жизни до университетского управления.
Если политическое внимание приковано к столице и к Москве — то фундаментальные процессы совершаются внутри страны, прежде всего — трансформация крестьянского мира, вылившаяся в то, что на официальном языке времени именовалось «аграрными беспорядками». Именно аграрные беспорядки, начавшиеся за несколько лет до революции 1905 г. — то есть до того, как революция вылилась на улицы городов — закончили «век русской усадьбы», приведя к массовым продажам землевладельцами земли, приобретателями которой выступали преимущественно крестьяне — так, что независимо от теоретических дебатов, значительная часть аграрной реформы, варианты которой будут обсуждаться в 1905—1906 гг., осуществится на деле.
А запомнившаяся многим — и с годами приобретшая символическое значение — выставка русских портретов в Таврическом дворце, организованная Дягилевым, окажется эпилогом усадебной России, как раньше этот эпилог прозвучал со сцены МХТ в «Вишнёвом саде».
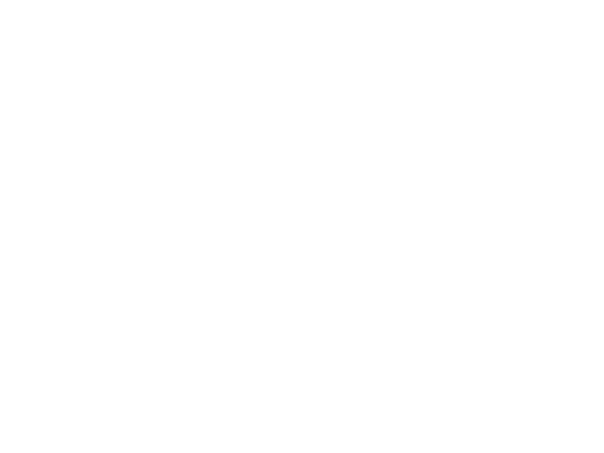
Советы
1905 год станет ещё и годом рождения новой политической формы — спонтанной, зародившейся без всяких теоретических предпосылок, но затем на десятилетия ставшей предметом как практических устремлений, так и теоретических размышлений — рабочих советов (первоначально — в Иваново-Вознесенске). «Советы» как форма политической организации будут в XX веке вдохновлять множество политических теоретиков, в том числе Ханну Арендт («О революции», 1963), как возможность преодолеть тупики парламентаризма.
1905 год станет ещё и годом рождения новой политической формы — спонтанной, зародившейся без всяких теоретических предпосылок, но затем на десятилетия ставшей предметом как практических устремлений, так и теоретических размышлений — рабочих советов (первоначально — в Иваново-Вознесенске). «Советы» как форма политической организации будут в XX веке вдохновлять множество политических теоретиков, в том числе Ханну Арендт («О революции», 1963), как возможность преодолеть тупики парламентаризма.
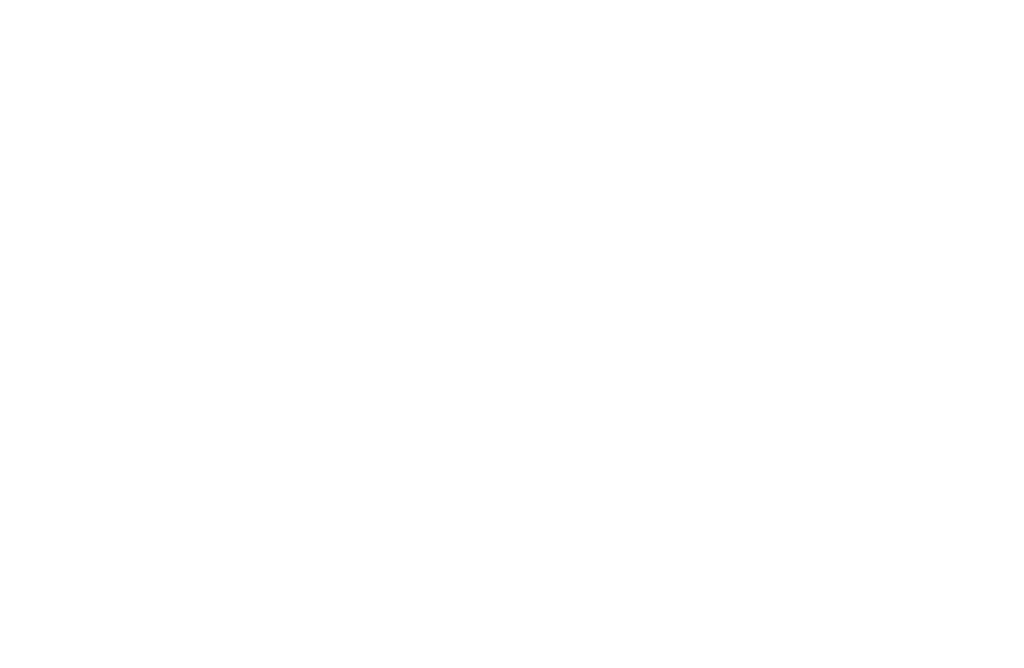
Совет рабочих депутатов Иваново-Вознесенска. 12 мая 1905 г.
Новый порядок
Всеобщая забастовка в октябре демонстрирует масштаб политического волнения, способность к совместному действию — в том числе в глазах власти, во многом парализовав даже работу высших органов. В их сознании возникает развилка — либо решительные, радикальные действия по подавлению волнения, введение диктатуры, либо уступки, стремление найти компромисс с недовольными. Выбор в пользу последнего — составление и обнародование Манифеста 17 октября — не только следствие опасений в возможности реализовать первый вариант, но и того важнейшего обстоятельства, что для самих верхов прежнее положение представляется нетерпимым.
Если для государя подписание манифеста — это уступка, то для многих высоких лиц империи, от членов императорской фамилии до высших сановников — это переход если и не к желанному, то давно понимаемому как «нормальный» порядку государственного устройства, когда политические свободы и народное представительство мыслятся как закономерное эволюционное движение, в идеале — «революция сверху». Примечательно, что «проект конституционной хартии», о составлении которого Витте в начале октября попросил Меньшикова (не воспользовавшись, правда, «ни одной строчкой»), по его позднейшему признанию, шёл в плане свобод и последовательности трансформаций «несравненно далее того, что было сделано 17 октября и всеми последующими узаконениями».
Новый порядок вещей ведёт и к возникновению нового правительства — преобразованию ранее существовавшего Совета министров в подобие «кабинета»: реформа, о которой постоянно рассуждали с 1860-х годов, теперь реализуется в порядке множества других преобразований — и Витте становится первым «главой правительства», «премьер-министром», как сразу же отзовётся печать.
Если для государя подписание манифеста — это уступка, то для многих высоких лиц империи, от членов императорской фамилии до высших сановников — это переход если и не к желанному, то давно понимаемому как «нормальный» порядку государственного устройства, когда политические свободы и народное представительство мыслятся как закономерное эволюционное движение, в идеале — «революция сверху». Примечательно, что «проект конституционной хартии», о составлении которого Витте в начале октября попросил Меньшикова (не воспользовавшись, правда, «ни одной строчкой»), по его позднейшему признанию, шёл в плане свобод и последовательности трансформаций «несравненно далее того, что было сделано 17 октября и всеми последующими узаконениями».
Новый порядок вещей ведёт и к возникновению нового правительства — преобразованию ранее существовавшего Совета министров в подобие «кабинета»: реформа, о которой постоянно рассуждали с 1860-х годов, теперь реализуется в порядке множества других преобразований — и Витте становится первым «главой правительства», «премьер-министром», как сразу же отзовётся печать.
Но ожидаемого умиротворения, как кажется, не происходит — на какое-то время создаётся впечатление, что Манифест 17 октября всё только ухудшил, поскольку объявленные им свободы, которые ещё должны быть зафиксированы в своей конкретике в законодательстве, берутся явочным порядком и в меру понимания — манифест оказывается de facto актом прямого действия. А в декабре в Москве начинается инициированное во многом левыми партиями, эсерами и эсдеками, вооружённое восстание — попытка прямого захвата власти. После некоторого промедления — власти действуют решительно и жёстко, из Петербурга прибывает гвардейский Семёновский полк, в боях, в частности на Пресне, задействуется артиллерия — попутно прибывают всё новые подкрепления из столицы. Восстание растянется почти на десять дней, превратив целый ряд районов Москвы в места ожесточённых боёв. Согласно официальному донесению московского генерал-губернатора всего чинов и должностных лиц убито 54, ранено — 119, частных лиц — 393, ранено 691.
Собственно, Манифестом 17 октября и подавлением восстания в Москве революция и завершается: манифест и заявленные им кардинальные реформы в целом удовлетворяли значительную часть общественности, тогда как решительными действиями в декабре 1905 г. власть продемонстрировала свою дееспособность — она показала, что всё ещё обладает как силой приказывать, так и достаточным числом тех, кто готов следовать отдаваемым ею приказаниям.
Собственно, Манифестом 17 октября и подавлением восстания в Москве революция и завершается: манифест и заявленные им кардинальные реформы в целом удовлетворяли значительную часть общественности, тогда как решительными действиями в декабре 1905 г. власть продемонстрировала свою дееспособность — она показала, что всё ещё обладает как силой приказывать, так и достаточным числом тех, кто готов следовать отдаваемым ею приказаниям.

Впрочем, то обстоятельство, что политическая революция на этом по существу закончилась, будет осознано всеми участниками событий существенно позднее: на тот момент царит ожидание следующего, ещё более высокого подъёма революционной волны — и это во многом будет определять действия всех сторон в следующем, 1906 году.
Михаил Меньшиков «Письма к ближним»
Том открывает масштабный проект полного издания Опуса Магнум одного из ключевых русских журналистов начала XX века.
